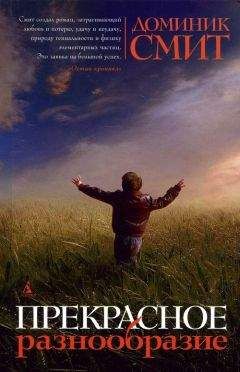Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]
— Скоро он опять засадит Пятраса, — неожиданно закончила Она свой рассказ.
— Куда засадит?
— Вот уж глупый мальчишка! — опять крикнула она. — Не знаешь, куда большевиков сажают? В кутузку засадят, вот куда. Он уж там сидел, и не раз, только что выбрался, говорила же я тебе. А его братец Повилас не дурак, он знает: если Пятрас власть свергнет, что тогда станет с его хозяйством, со всеми его коровами? Затем и ловит брата, где только застигнет, и в полицию доносит, а тот посидит-посидит — и опять за свое. Хоть ты его живьем режь! Кулаков, говорит, богатеев — долой, и моего брата, паразита, долой. Будет, говорит, как в России: ни царя, ни помещиков, кто работает, тому и власть, тому и воля, а кто не работает, тому коленом в зад — и долой!
И она опять с чего-то весело засмеялась.
Однако мне не было смешно. Сколько бы Она ни рассказывала, а я никак не мог понять: на чьей стороне она сама, кто хорош и кто плох? Одинаково ругает и хвалит всех: хозяина, Пятраса, Повиласа Довидониса, Литву, Россию… Все!..
Перед сном я принес из хлева навозные вилы и поставил их у изголовья. На всякий случай…
Излазил я лес вдоль и поперек, был со стадом даже на краю Дауйочяйского поля, — все искал могилу Йонаса. Но ее нигде не было. Осталось осмотреть только Валакнскую пустошь, где из года в год разрастались нетронутые кустарники, где темной стеной стояли косматые ели. Место глухое, недоброе. Старая Розалия сердито остерегала меня:
— Паси везде, но на Валакнскую пустошь не суйся и коров не пускай. Встретишь барсука — разом вырвет тебе пах!
Слыхал я, что звери хватают людей за горло, за загривок, ну, еще за ногу, но чтобы за пах…
— Почему за пах, тетенька? — спросил я.
— Такая уж природа у барсука, — пояснила Розалия. — Как встретит кого, цап за пах — и конец человеку. И не одних мужиков, всех за это место хватает. Берегись ты!
Долго я дивился, — чем это стращает старуха, — а потом смекнул: Йонас лежит не где-нибудь еще, а на Валакнской пустоши. Лежит один, всеми забытый, среди барсучьих и лисьих нор, слушает по ночам вой волков и уханье сов, и никто никогда не навестит его. И тогда я решился обязательно отыскать его могилу. Отыскать завтра же. Как пригонит Стяпукас стадо, я и пойду.
Прибежал Стяпукас, как всегда, продрогший, с коркой грязи на ногах. Полы его сермяги намокли, тяжело обвисли, кнут оборвался и потерян. Дал я ему свой, свитый еще Йонасом, и предложил:
— Попаси и мое стадо, я поищу грибов.
Стяпукас часто замигал глазами, поправил нахлобученный на голову мешок из-под суперфосфата.
— Ничего ты не найдешь, — дождик.
— Грибы в самый дождь и растут. Я тут недалече, сбегаю и сейчас же назад, — врал я ему в глаза. — Потом разведем костер, нажарим грибов, посолим их…
— Огня в такую мокреть не разведешь, — надул он губы. — И соли нет… грибы без соли есть противно.
Соль я всегда носил с собою. Как не помнить наставлений старика Алаушаса: когда повстречаешь зайца, надо насыпать ему на хвост соли, заяц враз остановится и будет ждать, чтобы ты взял его за уши. Зайцев я перевидел немало, но всегда только издали, а покуда разворачивал тряпицу с солью, они успевали ускакать невесть куда, показав мне свои белые зады. Так и не израсходовал соль и теперь сунул ее Стяпукасу под нос.
— А это что?
— Только ты не очень долго, — уступил он.
Выломал я себе толстую ясеневую палку и стрельнул в лес. Позади Стяпукас затянул свою любимую песню:
Бесы, бесы — не кукушки —
По ночам куку-у-ют!..
Остальных слов он не знал. Поэтому, немного подождав, затянул снова…
Бесы, бесы…
И опять, и опять. Он знал много песен, но у всех только начало, по нескольку слов. Идет лесом и орет:
Ой, шумит, шуми-ит,
Ой, зеленый ле-ес!..
А потом опять сызнова. Голос у него не сильный и очень дрожит, а когда Стяпукас поет, то поднимает ногу и трясет ею, чтобы голос еще пуще дрожал.
Теперь его песня все слабела. Я шел дальше. Места кругом были знакомые, много раз я прогонял здесь стадо, все исходил, избродил. Лишь спустя некоторое время, когда голос Стяпукаса совсем заглох в лесу, впереди затемнел густой молодой ельник; тут я еще не бывал. Забрался я туда. Порыжелые, мертвые ветви переплелись в непролазную крепь, прочно связавшую тонкие стволы елей. Земля покрыта толстым слоем хвои, прошлогодних и позапрошлогодних шишек, истлевшими веточками, которые рассыпались от одного прикосновения ноги. Из-под хвойного покрова курятся испарения сырой земли, в которых заметно слышится запах гниющих груздей и опенков. А продираться все труднее и труднее. Как будто чьи-то живые руки хватают за полы, не пускают, тянут назад. И кругом так сумрачно, полно тревожных звуков. Будто обступают меня барсуки и лисицы, стучат зубами матерые волки… Но всякий раз, когда я, не в силах одолеть страха, оборачивался, то опять видел ту же порыжевшую крепь, и больше ничего. Ничегошеньки! Только зиял узкий прогал между обломанными сучьями, где я пролез…
Наконец ельник кончился. Засветила зеленая полянка. На ближнем ее краю я увидел маленькую лачужку. Она чуть ли не до половины ушла в землю, глубоко зарылась под ветви старой березы, опершись одним боком на ее ствол. Из открытой двери сенцев курился дым…
«Берлога Дамулене!» — с испугом подумал я.
Об этой Дамулене в народе ходили разные слухи, россказни и толки. Многие уверяли, что она подлинная ведьма и что у нее страх какой дурной глаз: чуть взглянет на ребенка, и тот забьется в припадке, а на корову взглянет — молока как не бывало! Другие говорили, что Дамулене разумная и добросердечная женщина, что она заговаривает кровь от укуса змеи и всячески помогает людям. Однако и те и другие сходились на том, что она напустила сухотку на родную дочь, а потом свела в могилу и своего мужа, старого царского солдата. Солдат Дамулис был человек не простой, а сам король ведьм. По ночам мочил в речке Уосинте кнут в пять пудов весом, а вымочив, так учил им ведьм, что те с визгом кидались исполнять все его приказания: напустить порчу на корову, ерошить в месячную ночь волосы удавленнику, выстричь плешины старому холостяку, утопить ребенка в пруду, загонять лошадь в хлеву… Дамулене взъелась на мужа через такое баловство, напустила на него сухотку и послала к праотцам, а теперь колдует…
И тут я вдруг увидел, как из сенцев выбежала сивая коза. Левый рог у нее был заведен назад, а потом изгибался вдоль челюсти вниз, до самой морды, правый стоял торчком, словно палка. Вслед за козой выбежала и сама ведьма Дамулене — высокая, сухая, как щепка, рябая женщина. Нос у нее был долгий, несусветно тонкий, а глядела она, как мне показалось, устрашающе, выискивая меня среди деревьев. Я не стал ждать, когда она найдет, а понесся назад и бежал все дальше, задыхаясь и спотыкаясь о пни и корневища деревьев.
Один бог ведает, долго ли я бежал и куда прибежал. Только когда остановился, то кругом все было незнакомое. Лужайки, ольшаник, березничек, а дальше лес полого спускался к самой Валакискои пустоши. И всюду сочная, никем не топтанная трава в крапинах горицвета и таволги. Бросился я к луже, долго пил бурую от моха и водорослей протухшую воду. А когда поднялся, то прямо ахнул от радости: между стволами косматых елей обозначались две тележные колен: кто-то здесь проезжал и опять возвратился. И вернее всего, не кто-то, а мой хозяин!
И вот я захожу по колеям все глубже и глубже в лес. Вот желтое песчаное взгорье, все изрытое старыми картофельными ямами. А между ними, между этими ямами, уж ясно видна свежевзрыхленная земля. Тут кончились и колеи. Глубокие следы копыт еще показывали, как лошадь подошла, повернула и пошла обратно. Я стащил с головы шапку: здесь покоится Йонас.
Дождь все еще шлепал в листве деревьев, и порывистый ветер шумел в верхушках леса, то замирая, то опять набирая силу. И мне казалось, что это не сосны шумят кругом, а опечаленные сестры оплакивают Йонаса. Прижался и я лицом к смолистому стволу и долго стоял с шапкой в руках, снова и снова вспоминая, как первый раз увидел Йонаса, как несли мы запаренную мякину, а я ехал верхом на мешалке и как он кричал: «Держись за меня, иначе пропадешь!»
Я не заметил, как в лесу стало темнеть. Пошел по колее обратно, стараясь не терять ее из виду. Но вот на пути блеснуло торфяное болото, и тут колея кончилась: и вперед не ведет, и поворота нет. Несколько раз обежал я болото, обводя взглядом лес, все искал колею. Но она исчезла, как сквозь землю провалилась. А кругом все сгущалась тьма, окутывая кусты и деревья, затопляя поляны и просеки.
— Ау-у-у-у! — крикнул я в смятении.
— У-у-у!.. — отозвался лес.
Прошумел новый порыв ветра, закапала с деревьев вода. И опять тишина, глухая, тревожная лесная тишина.